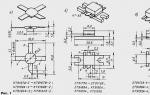Мульти сплит система general climate. Преимущества инверторных мульти-кондиционеров. Особенности использования мульти-систем
Поэма А.А. Ахматовой озаглавлена названием заупокойной службы. Но это имеет, скорее, общекультурный смысл; религиозная сторона воспринимается как обращение к всевышней справедливости, как расширение образа лирической героини до образа Богоматери, заступницы всех женщин на земле. Ахматову все воспринимали, по точному замечанию И. Бродского, «поэтом человеческих связей», поэтому совершенно оправданно эта тема заступничества за миллионы матерей зазвучала из ее уст. Лирическая героиня поэмы чувствует себя не просто жертвой или рядовой участницей советской истории, она готова взять на себя более глобальную миссию – миссию Богородицы.
Важно, что Ахматовой не нужно было перевоплощаться из светского человека в богомолку, это состояние всегда жило в глубине ее души. Чувство православной соборности не дает поэту свести к личной драме «Реквием», несмотря на, действительно, очень личный характер произведения и то, что в поэме не всегда можно отделить героиню – мать и жену – от автора. Поэма масштабна, будучи эпическим произведением. Лично пережитое, автобиографическое тонет в общенародном безмерном страдании:
Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари…
Многоголосие в поэме равнозначно безымянной всеголосности. Когда поэта спросили: «А это вы можете описать?» – она ответила согласием, она взяла на себя ответственность произнести слово за всех нас, в том числе и за «женщину с голубыми губами» (говорящая деталь в облике персонажа как бы готовит читателя к тому, что ему предстоит пережить, слушая описание жизни таких, как она). В «Эпилоге» автор будто дает отчет перед всеми, от чьего имени написана поэма:
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде…
И нигде нет мысли о себе лично, только в связи с ролью, озвученной в словах: «…мой измученный рот, которым кричит стомильонный народ…». Право быть представительницей «стомильонного народа» можно заслужить, лишь имея «подруг двух моих осатанелых лет», представляя, как «трехсотая, с передачею, под Крестами будешь стоять», подсчитав, что «семнадцать месяцев кричу, зову тебя домой», и зная, «где стояла я триста часов». Все эти числительные словно документально фиксируют в памяти народа трагедию миллионов матерей.
Доказательством того, что Ахматова обратилась к теме материнского страдания не только в связи с арестом сына, является существование мотива материнства еще в ранней ее лирике:
Доля матери – светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.
……………………………………….
Все брожу по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его.
В стихотворении 1940-го года мы находим прямую аллюзию:
Буду я городской сумасшедшей,
По притихшим бродить площадям.
Мотив безумия, связанный потерей ребенка, в «Реквиеме» сочетается с мотивом памяти. Память кажется героине смертельной («Приговор»):
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
Но историческую память России-матери невозможно истребить. Образ лирической героини, действительно, вырастает в образ самой России, православной, богомольной, страдающей за своих детей. Героиня «Реквиема» воспринимается нами глубоко верующей христианкой, пробуждающейся затемно, чтобы пораньше занять место под тюремной стеной, – «подымались, как к обедне ранней». Для нее естественно с арестованным мужем прощаться в комнате, где «у божницы свеча оплыла», чувствовать на губах при прощальном поцелуе «холод иконки». В атмосферу поэмы органично вписывается и «звон кадильный» во время молебна о здравии, и панихидная «вечная память» по невернувшимся.
Убеждение Ахматовой в том, что кровь ничем не может быть оправдана, покоится на вечной христианской заповеди: «Не убий». В этом контексте не кажется странным и появление образа «стрелецких женок», связывающего прошлое с настоящим. Ведь героиня «Реквиема» скорбит о всех погибших сыновьях и о горе всех матерей. Поэма звучит не просто как заключительное обвинение поэта страшным злодеяниям кровавой эпохи. Это само время обращается к памяти поколений, ставит монумент всем безвинно погибшим:
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег.
А матери – горестные свидетели творимых на земле бед – будут вечно скорбеть по сынам, пропуская через свою душу поток времени:
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
1937 год. Страшная страница нашей истории. Вспоминаются имена: О. Мандельштам, В. Шаламов, А. Солженицын... Десятки, тысячи имен. А за ними искалеченные судьбы, безысходное горе, страх, отчаяние, забвение. Но память человека странно устроена. Она хранит самое сокровенное, дорогое. И страшное...
"Белые одежды" В. Ду-динцева, "Дети Арбата" А. Рыбакова, "По праву памяти" А. Твардовского, "Проблема хлеба" В. Подмогильного, "Архипелаг ГУЛАГ" А. Солженицына - эти и другие произведения о трагических 30-40-х гг. XX века стали достоянием нашего поколения, совсем недавно перевернули наше сознание, наше понимание истории и современности.
Поэма А. Ахматовой "Реквием" - особое произведение в этом ряду. Поэтесса смогла в нем талантливо, ярко отразить трагедию личности, семьи, народа. Сама она прошла через ужасы сталинских репрессий: был арестован и семнадцать месяцев провел в сталинских застенках сын Лев, г-~д арестом находился и муж Н. Пунин; погибли близкие и дорогие ей О. Мандельштам, Б. Пильняк; с 1925 г. ни единой ахматов-ской строчки не было опубликовано, поэта словно вычеркнули из жизни. Эти события и легли в основу поэмы "Реквием".
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл
- Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был...
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой...
Ты сын и ужас мой.
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках...
Меня поражает глубина и яркость переживаний автора. Я забываю о том, что передо мной художественное произведение. Я вижу надломленную горем женщину, мать, жену, которая сама не верит в возможность пережить такое: Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла... А ведь когда-то была "насмешницей и любимицей всех друзей, царскосельской веселой грешницей..." Был любимый муж, сын, радость творчества. Была обычная человеческая жизнь с минутами счастья и огорчений. А теперь? Разве те огорчения могут сравниться с происходящим сейчас?!
Картины, одна страшнее другой, возникают при чтении поэмы. Вот "уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла..." А вот "трехсотая, с передачею, под Крестами" стояла, прожигая новогодний лед горячею слезою. Вот "кидалась в ноги палачу" и ждала казни. А когда "упало каменное слово", училась убивать в себе память, душу, училась жить снова. Мотив смерти, окаменелого страдания звучит в стихах поэтессы. Но, несмотря на личное горе, лирическая героиня сумела подняться над личным и вобрать в себя горе других матерей, жен, трагедию целого поколения, перед которой "гнутся горы". И снова страшные картины. Ленинград, болтающийся "ненужным привеском", "осужденных полки", "песня разлуки". А "высокие звезды с душами милых" стали теперь звездами смерти, смотрят "ястребиным жарким оком".
Поэтесса размышляет о любимой родине, о России, которая безвинно корчилась в страданиях, о своих подругах по несчастью, которые седели и старились в бесконечных очередях. Ей бы хотелось всех вспомнить, назвать поименно. Даже в новом горе и накануне смерти не забудет она о них. И памятник себе она хотела бы иметь не у моря, где родилась, не в царскосельском саду, где подружилась с музой, а у той страшной стены, где стояла триста часов. Устами лирической героини поэтесса взывает к нашей памяти, памяти своих современников и будущих поколений.
Поэма Анны Ахматовой "Реквием" - это осуждение насилия над личностью, приговор любому тоталитарному режиму, который базируется на крови, страданиях, унижениях как отдельной личности, так и целого народа. Став жертвой такого режима, поэтесса взяла на себя право и обязанность говорить от имени пострадавшего многомиллионного народа. Передать свою боль, выстраданные в несчастье мысли помогли Ахматовой ее многогранный талант художника слова, ее умение вести диалог с читателем, доносить до него самое сокровенное. Поэтому поэма "Реквием" волнует читателей, заставляет их задуматься о происходящем вокруг. Это не только надгробный плач, но и суровое предостережение человечеству.
Поэма А. Ахматовой «Реквием» - особое произведение. Это напоминание о всех прошедших неслыханные испытания, это взволнованная исповедь исстрадавшейся человеческой души. «Реквием» - это летопись 30-х годов ХХ века. У Ахматовой спросили, сможет ли она это описать.
Спросила незнакомка, стоя в очереди в тюремном коридоре. И Ахматова ответила утвердительно. К теме увековечения своего страшного времени она шла давно, с тех самых пор, когда впервые был арестован ее сын. Это был 1935 год. А потом были еще аресты. То, что выходило из-под ее пера в эти годы, продиктовано не одним лишь личным материнским горем - это горе миллионов, мимо которого Ахматова не могла пройти равнодушно, иначе она не была бы Ахматовой…
Поэтесса, стоящая в тюремной очереди, пишет не только о себе, а обо всех женщинах-матерях, говорит о «свойственном всем нам оцепенении». Предисловие к поэме, как и эпиграф, - ключ, помогающий понять, что эта поэма написана, как когда-то «Реквием» Моцарта, «по заказу». Женщина с голубыми губами просит ее об этом как о последней надежде на некое торжество справедливости и правды. И Ахматова берет на себя этот «заказ», этот столь тяжкий долг, нимало не колеблясь, - ведь она будет писать обо всех, в том числе и о самой себе.
У Ахматовой забрали сына, но она поднялась над собственным материнским страданием и создала поэму о страданиях Матери вообще: Марии - по Иисусу, России - по миллионам погибших ее детей. В поэме показано единство всех женщин - всех страдающих матерей, от Богоматери, «стрелецких женок», жен декабристов до «царскосельских веселых грешниц». И ощущая в своем страдании сопричастность страданию многих, поэтесса смотрит на него как бы со стороны, откуда-то сверху, возможно, с неба: Тихо льется тихий Дон, Желтый месяц входит в дом. Входит в шапке набекрень. Видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. Лишь на пределе, наивысшей точке страдания, возникает эта холодная отрешенность, когда о себе и о своем горе говорится беспристрастно, спокойно, как бы в третьем лице… Мотив полубредового образа тихого Дона подготавливает другой мотив, еще более страшный - мотив безумия, бреда и полной готовности к смерти или самоубийству: Уже безумие крылом Души накрыло половину, И поит огненным вином, И манит в черную долину. И поняла я, что ему Должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему Уже как бы чужому бреду. И не позволит ничего Оно мне унести с собою (Как ни упрашивай его И как ни докучай мольбою)…
В какой-то момент наивысшего напряжения страдания можно видеть не только тех, кто рядом во времени, но и всех когда-либо страдавших женщин-матерей одновременно. Объединяясь в страдании, разные времена смотрят друг на друга глазами своих страдающих женщин. Это демонстрирует, например, четвертая часть поэмы. В ней «царскосельская веселая грешница» глядит в глаза той, «трехсотой, с передачею», - это уже столкновение разных женщин. А преодоление временного разлома происходит через ощущение его в себе, когда действительно «сердце пополам» и две половины - это одновременно и одна и та же, и две разные женские жизни.
Так и проходит она этот путь - по кругам ада все ниже и ниже, И женские фигуры на пути - Мне с Морозовою класть поклоны, С падчерицей Ирода плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы с Жанной на костер опять - Как памятники страданию. А потом - резкий рывок назад в настоящее, к тюремным очередям Ленинграда. И все оказываются едины перед лицом пытки времени.
Никакими словами не передать того, что происходит с матерью, сына которой мучают: А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. Это такое же табу, как для Лотовой жены оглянуться. Но поэтесса - оглядывается, смотрит, и как жена Лота застыла соляным столбом, так и она застывает этим памятником - памятником живым, оплакивающим всех страдающих людей…
Такова мука матери из-за распинаемого сына - мука, равносильная муке умирания, но смерть не приходит, человек живет и понимает, что надо жить дальше… «Каменное слово» падает на «живую грудь», душа должна окаменеть, и когда «надо память до конца убить», то жизнь начинается сначала. И Ахматова соглашается: все это «надо» И как спокойно, по-деловому звучит: «Справлюсь с этим как-нибудь…
» и «У меня сегодня много дела!». Это свидетельствует о своего рода превращении в тень, превращении в памятник («душа окаменела»), и «снова научиться жить» - значит научиться жить с этим… «Реквием» Ахматовой - подлинно народное произведение, не только в том смысле, что он отразил великую народную трагедию. Народное прежде всего потому, что «соткан» из простых, «подслушанных» слов.
«Реквием», исполненный большой поэтической экспрессии и гражданского звучания, выразил свое время, страдающую душу матери, страдающую душу народа…
Сила материнской любви в поэме А.Ахматовой « Requiem »
и повести В.Закруткина «Матерь человеческая»
Чем больше любовь матери, тем больше страдание
души, чем полнее любовь, тем полнее и познание материнства
Старец Силуан Афонский
Теме материнской любви во всех видах искусства придавалось и придается особое значение. Известно, что прообразом Матери является Дева Мария, Богоматерь. В русском искусстве этот образ занимает особое место. Любовь и почитание к Богоматери возникли с первых веков принятия христианства на Руси: церкви, календарные праздники, иконы и молитвы посвящены Пресвятой Деве.
Во второе воскресенье после Пасхи Православная Церковь празднует память святых Жен - мироносиц. После предательства Иудой Христа все ученики Его бежали. Над распятым Иисусом проходящий народ злословил и насмехался. И только Матерь Его с любимым учеником Иоанном стояли у Креста, а женщины, следовавшие за ним и Его учениками во время Его проповеди и служившие им, смотрели издали на происходящее. Только те, которых впоследствии назвали женами - мироносицами, остались верными до конца. Они не имели никакого права голоса. Молчаливо стоя у Креста, жены -мироносицы оставались со своим Учителем до последней минуты, и проявили такое мужество, которого не оказалось у мужчин. Господь Иисус Христос был не только Богом, но и Человеком, и потому нуждался и в человеческой поддержке и сочувствии.
Божия Матерь, не имевшая даже права прикасаться к телу умершего Своего Сына, не могла и совершать погребение ― это должны были делать мужчины. Всё, что остаётся ей – оплакивать своего Сына.
Этот сюжет из «Евангелие» широко используется в литературе 20 века. Анна Ахматова в знаменитой своей трагической поэме «Requiem» написала строки, которые можно считать одними из самых сильных в русской или даже мировой поэзии:
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел, А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел.
Горе матери, видящей казнь сына, безмерно. Ахматова, пережившая арест собственного сына, как будто взяла по слезинке из них, начиная с Той, Которая стояла у Креста с пронзенной, по слову Симеона Богоприимца, душой. Безмолвие матери на фоне "хора ангелов" и рыданий Магдалины, а также своеобразная оптическая изоляция (в её сторону "так никто взглянуть и не посмел") делают Мать центральной фигурой композиции. Евангельский первоисточник помогает Ахматовой описать то, что творилось в её душе и душах тысяч других матерей.
Голос матери слышится в семи главах (1,2, 5-9). Это рассказ о прошедшем, о своей судьбе, о судьбе сына. Монотонный, как молитва, он напоминает причитание или плач: «Буду я, как стрелецкие жёнки, под кремлёвскими башнями выть»
Приговор судьбы уже осознан: безумие и смерть воспринимаются как высшее счастье и спасение от ужаса жизни. Природные силы предрекают тот же самый итог.
Каждая из глав монолога матери становится всё более трагичной. Особенно поражает лаконизм девятой: смерть не приходит, память жива. Она становится главным врагом: «Надо память до конца убить». И на помощь не приходят ни поэт, ни историк – горе матери очень личное, она страдает одна.
Слова, произносимые Христом накануне своей человеческой смерти, вполне земные. Обращение к Богу - упрёк, горькое сетование о своем одиночестве, покинутости, беспомощности. Слова же, сказанные матери, - простые слова утешения, жалости. "Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи". Адресуя слова Сына непосредственно Матери, Ахматова тем самым переосмысливает Евангельский текст и основное внимание приковывает к Матери, ее страданиям. И смерть сына влечет за собой смерть Матери, а потому, созданное Ахматовой Распятие – это распятие не только сына, но и Матери
Читая главу "Распятие", невольно вспоминаешь картины Рембрандта, Рубенса, Васнецова, Веронезе и многих других, обращавшихся к этой же теме.
На каждой из этих картин мы находим скорбную фигуру матери - она всегда рядом со страдающим сыном. На картине П. Веронезе мы видим лицо матери, склонившейся над своим сыном. Из ее глаз текут слёзы... Евангельский лик женщины на картине Васнецова "Плащаница" напоминает икону скорбящей матери.
Больше всего поражает картина Рембрандта "Снятие с креста". Рембрандт изобразил фигуру матери, лишившейся чувств, и, вопреки канонам, пишет её лицо, обезображенное страданием. А У Ахматовой мы читаем:
Уже безумие крылом
Души накрыло половину, И поит огненным вином И манит в черную долину.
Распятие в « Requiem » - вселенский приговор бесчеловечной системе, обрекающей мать на безмерные и неутешительные страдания."
Кульминацией этих страданий становится 10-я глава. Во второй части Иисус уже мертв. У подножия Распятия стоят трое: Магдалина, любимый ученик Иоанн и Дева Мария – мать Христа. В Реквиеме нет имен и фамилий, кроме имени Магдалины. Даже Христос не назван. Мария – «Мать», Иоанн – «любимый ученик».
Небольшая по объёму, она несёт огромную смысловую нагрузку. Именно в этой главе раскрывается вся боль героини - матери, потерявшей сына. Страдания матери ассоциируются с состоянием Богородицы, Девы Марии, страдания сына с муками Христа, распятого на кресте. Магдалина и любимый ученик как бы воплощают собой те этапы крестного пути, которые уже пройдены Матерью: Магдалина - мятежное страдание, когда героиня поэмы «выла под кремлёвскими башнями» и «кидалась в ноги палачу», Иоанн - тихое оцепенение человека, пытающегося «убить память», обезумевшего от горя и зовущего смерть.
Горе матери беспредельно – в ее сторону даже невозможно смотреть, ее горе невозможно передать словами. Молчание Матери, на которую «так никто взглянуть и не посмел», разрешается плачем - реквиемом. Не только по своему сыну, но и по всем погубленным.
Богоматерь уже много веков оплакивает каждого невинно гибнущего ребёнка, и любая мать, теряющая сына, степенью своей боли как бы сближается с ней. И нет спасения. Постепенно к «Эпилогу» голоса сливаются: голос матери и поэта начинают звучать нераздельно.
Свою поэму Ахматова посвящает всем женщинам и матерям, которые, страдая, находились на грани истощения физических и душевных сил и жили лишь надеждой. Но благодаря их бесконечной любви и перенесенным мукам жизнь будет продолжаться.